Разделы
1791-1794 Служба в сейме Речи Посполитой, участие в восстании Костюшко

1794

Представление и первая беседа с новым послом России в Польше Осипом Игельстромом. Отъезд из Варшавы в Вену по приглашению дяди, Михаила Казимира Огинского. Возвращение в Варшаву по требованию короля Станислава Понятовского. Получение известия из Вены о подготовке восстания в Польше. Отъезд в Литву по семейным делам.
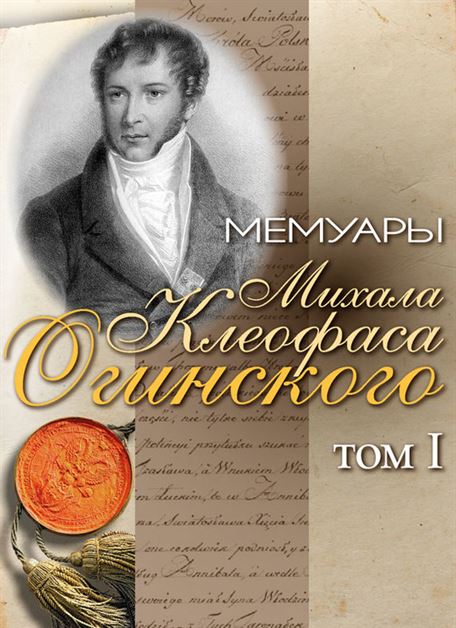
Михал Клеофас Огинский
«О Польше и поляках с 1788 года до конца 1815 года», том 1
«Первый же визит мой к Игельстрому показал, что мы ничего не выиграли от этой замены. Он стремился произвести впечатление и внушить страх не только как представитель своей государыни, сопровождая все, что он говорил, угрожающим выражением лица и тоном, вызывавшим дрожь, – к политическим обвинениям он прибавлял зачастую личные упреки и выпады, не стесняясь в выборе выражений. Так, он излил свою желчь на гетмана Огинского, припомнив ему факты двадцатилетней давности, начиная с 1771 года, позволил себе злые шутки по поводу его нынешнего пребывания в Вене, его вкуса к удовольствиям и рассеянному образу жизни».

«Меня же он упрекнул в том, что я был посланником Польши в Англии и Голландии в период конституционного сейма, что я был другом Сиверса и недругом К… и тарговицких конфедератов, что иногда высказывался против него самого, о чем ему докладывало немало моих же соотечественников, что я подавал советы королю, который имел, по счастью, достаточно здравого ума, чтобы им не следовать, что я отсутствовал в течение нескольких недель на сейме в Гродно, что избегал возможностей заслужить благосклонность императрицы. Закончил Игельстром резко и гневно – заявлением, что он не какой-нибудь Сиверс, что не позволит собой вертеть и еще покажет всем, кто не признает его власть и отказывается выполнять его приказания, как именно они должны ему подчиняться.
Я сохранял хладнокровие и, не вдаваясь в объяснения, ограничился тем, что заметил ему: я пришел лишь затем, чтобы отдать ему положенный визит как представителю могущественной государыни, так как я стал ее подданным в результате последнего раздела страны».

«Теперь же, не в качестве министра Польши, а в качестве такого же, как он, подданного Ее Величества императрицы России, я смею спросить у него: по какому праву он позволяет себе упрекать человека, которому сама императрица не отказала в своей протекции?.. Далее я заявил, что, не будучи привычен к грубостям, я не потерплю их ни от кого; что он может разговаривать таким тоном со своими подчиненными или с теми, кто нуждается в его милостях; что же до меня самого, то я принял решение сложить с себя должность великого подскарбия литовского, покинуть немедленно Варшаву и отправиться в Петербург, что я предпочитаю быть последним из подданных императрицы, чем занимать один из первых постов в Польше.
Это заявление подействовало на Игельстрома как мановение волшебной палочки: морщины на лбу разгладились, гнев уступил место проявлениям вежливости и уважения. То ли он действительно пожалел о том, что дал волю своему буйному нраву, то ли испугался, как бы я и в самом деле не отправился в Петербург, но тон он сменил. Надо отдать ему должное, что после этого разговора он всегда проявлял ко мне большое уважение. Двадцать два года спустя, когда я встретил его уже в опале, удрученного годами и болезнями, он проявил ко мне внимание и предупредительность, словно пытаясь загладить передо мной ту вспышку гнева и заставить о ней забыть, хотя я с тех пор и не вспоминал о том случае».
«Я использовал эту перемену в умонастроении Игельстрома, чтобы получить возможность удалиться из Варшавы. Я не хотел заседать в Постоянном совете, членом которого, к несчастью, являлся в качестве главы департамента финансов. К моему удовольствию, это мне удалось, и потому не пришлось голосовать за решения, навязанные посланником и вызывавшие во мне отвращение, – иначе неизбежно последовали бы новые столкновения с ним, которых я хотел избежать.
Через несколько дней после моего разговора с Игельстромом я получил письмо из Вены от гетмана Огинского, в котором он сообщал, что тяжело болен, и просил срочно приехать повидаться с ним. Я сообщил об этом российскому послу, и тот без всяких затруднений выдал мне паспорт. Я тут же отправился в дорогу, но некоторое недоразумение вынудило меня остановиться в Ольмюце (немецкое название города Оломоуц в Чехии).
Там меня и настиг курьер посла, к письму которого была приложена записка от короля: в ней была предупредительная, но и весьма настойчивая просьба, не теряя времени вернуться в Варшаву ради государственных дел чрезвычайной важности. Я ответил в нескольких словах, что болен, что не продолжу путь в Вену и вернусь в Варшаву, как только позволит здоровье».

«Я задержался еще на несколько дней в Ольмюце и за это время послал в Вену с верным человеком драгоценности, деньги и бумаги, принадлежавшие гетману Огинскому и бывшие у меня на сохранении. При этом я дал ему знать о причинах, по которым не мог продолжать свой путь в Вену.
Поскольку гонец, посланный мною, был человеком надежным, на которого можно было вполне рассчитывать, ему в Вене передали для меня письма, в которых сообщалось, что готовится заговор против поработителей Польши; что ядро этого заговора находится в зарубежной стране, которая не называлась; что тайные связи соединяют все провинции Польши и что они тянутся в самый центр Варшавы. Ранее или позднее разразится восстание, гибельное для русских и их сторонников, однако при этом трудно надеяться на благотворность его результатов для нашей несчастной страны.»

«Я вернулся из путешествия в начале февраля 1794 года. Больше не было разговора о срочных делах, по поводу которых Игельстром и король считали необходимым мое присутствие в Варшаве.
Очевидно, что это был лишь предлог отозвать меня обратно в Варшаву. Игельстром, который боялся нареканий из Петербурга за то, что отпустил меня в Вену, заставил короля написать мне настоятельную. Я заметил также, что Игельстром был вежлив, но сдержан со мной и даже не настаивал, чтобы я обязательно присутствовал на всех заседаниях Совета, от которых я уклонялся под предлогом состояния здоровья, которое еще не совсем восстановилось. Было очевидно, что посол не доверял мне и боялся моего влияния на короля и на то малое число членов Совета, которые были искренне преданы интересам родины».
«Я еще раз воспользовался снисходительностью Игельстрома, чтобы заявить ему, что, прежде чем отправиться в Петербург, как я ему уже говорил, мне необходимо привести в порядок и завершить мои семейные дела в Литве по поводу контрактов в Минске и Новогрудке на месяц март.
Игельстром нашел мою просьбу уважительной, а поскольку вопрос о моей поездке в Петербург стоял по-прежнему и он побаивался, что я могу причинить ему вред, то без всяких затруднений согласился на мой отъезд. Однако, под предлогом облегчения моего проезда через расположение российских войск, он приставил ко мне сопровождающим унтер-офицера, очень сообразительного, которому было поручено, как я догадался вскоре, наблюдать за мной и следить за всеми моими действиями.
Это был последний раз, когда я виделся с Игельстромом в Варшаве. Я спешно покинул столицу и увидел ее вновь только после трагических событий, ареной которых она стала. Застал я этот город в состоянии, весьма отличном от того, в каком он был к концу февраля».



